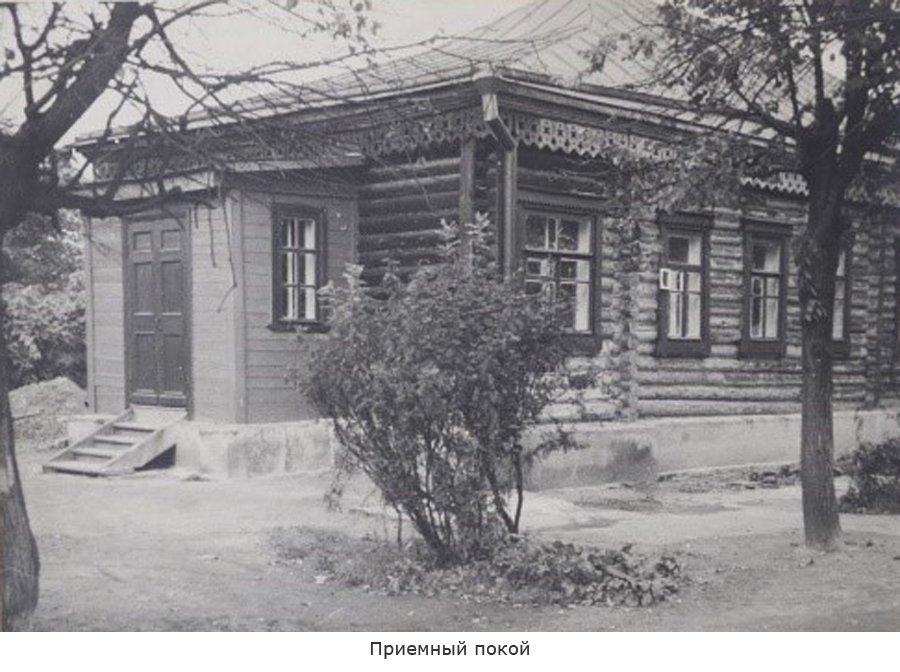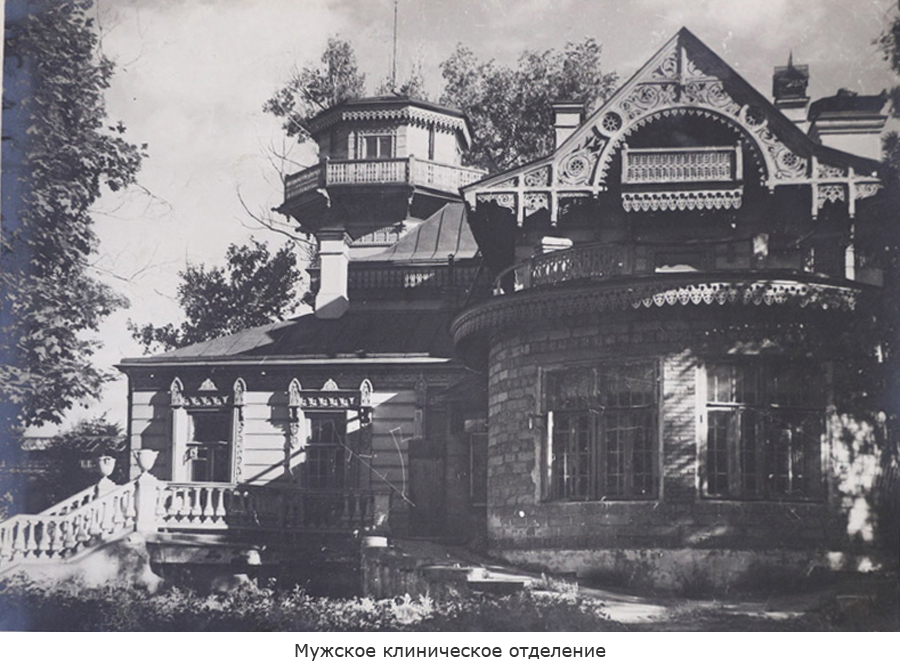История храмов
Храм свт. Митрофана Воронежского
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
Храм мч. Вонифатия
Храм сщмч. Владимира Медведюка
Храм сщмч. Иоанна Артоболевского
История храма началась в начале 90-х.
Отец Димитрий при участии Нины
Леонидовны Куклиной, заведующей наркологическим отделением, договорился с главврачом больницы Владимиром
Ивановичем Поддубным, что священники
Митрофаниевского храма будут служить
молебны в отделениях больницы, причащать больных, а также о последующем
устройстве храма на территории больницы.
Первые молебны в 10-м отделении проводил отец Сергий Виноградский, затем
в 1993 году назначили служить отца Максима Обухова, медика по образованию.
Иногда его замещали другие священники
нашего объединенного прихода.
Молебны служили в тех отделениях,
где можно было договориться с заведующими.
Сестры сестричества во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы
каждую неделю ходили служить молебны, поздравляли больных и медицинский персонал
с Рождеством и Пасхой, собирая в копилку
в Благовещенском храме и у спонсоров
средства для приобретения нескольких
сотен подарков, а на Пасху еще покупали
и красили сотни яиц.
Постепенно все больше сотрудников
больницы стало появляться в храме.
Потом у отца Димитрия и главного
врача Владимира Ивановича Поддубного
возникла идея устроить храм в старинном,
столетнем здании библиотеки, тем более
что здесь когда-то была часовня.
Когда у Патриарха Алексия брали благословение на открытие храма, он сказал, что надо освятить его в честь мученика Вонифатия, которому молятся об исцелении от алкогольной и наркотической зависимости, — ведь в больнице много алкоголиков и наркоманов.
1 января 1998 года, в день памяти святого мученика Вонифатия, в храме была совершена первая Божественная литургия.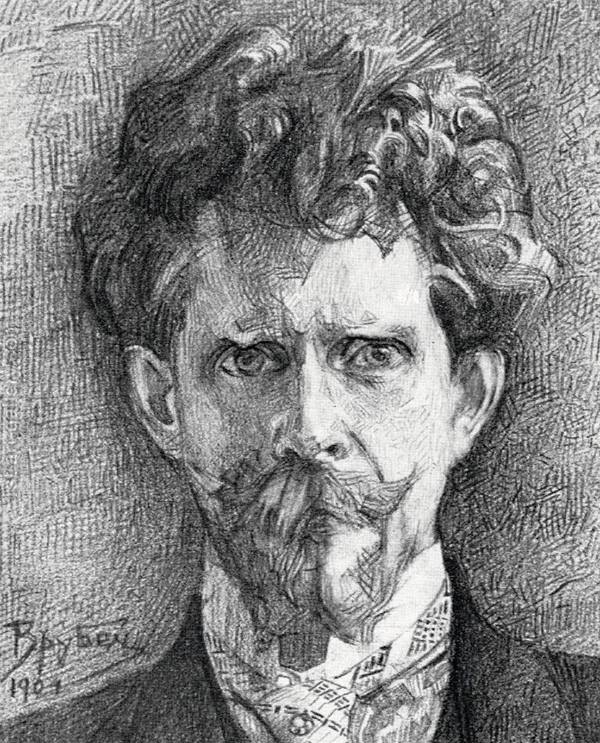
6 марта 1903 года в Петровском парке, бывшем в то время дачной окраиной Москвы, врач-психиатр Федор Арсеньевич Усольцев открыл частную лечебницу-санаторий для нервно — и душевнобольных и алкоголиков. Федор Усольцев, сын топографа, исследователя Сибири и Дальнего Востока Арсения Усольцева, был незаурядным человеком и новатором в своей области. Выпускник Московского университета, ученик выдающегося психиатра Сергея Сергеевича Корсакова, он перехал в Кострому и работал в психиатрическом отделении губернской земской больницы, а позже, когда его жена Вера Александровна получила значительное наследство, задумал открыть собственную клинику.
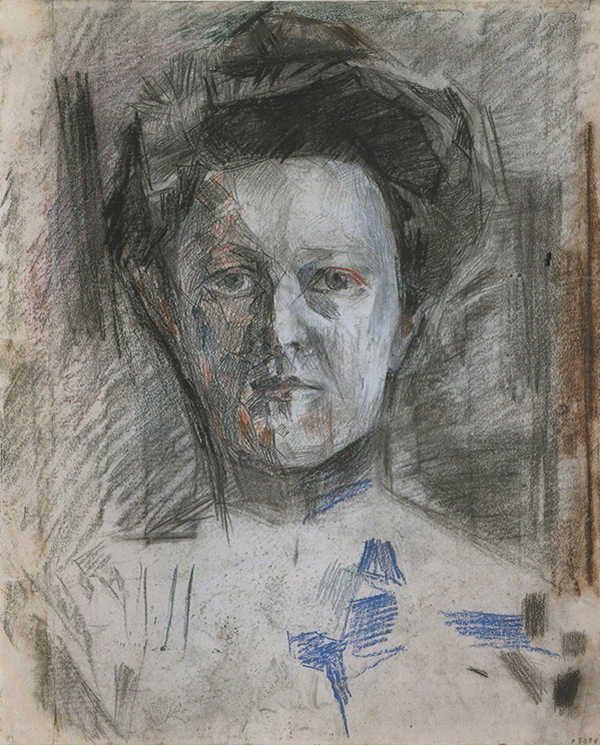 Вера Александровна, окончившая дрезденскую консерваторию, имела и медицинское образование и
поддержала идею мужа. Супруги приобрели дачу господина Истомина в Петровском парке с двумя
одноэтажными деревянными флигелями и радикально их перестроили по плану самого доктора, чтобы
больничный корпус представлял собой как бы одну большую квартиру. Сад привели в порядок и проложили дорожки для прогулок.
В своей «санатории» Усольцев создал особый климат добросердечия, внимания и уважения к личности
больного. Лечебница была устроена на манер домашнего пансиона, и пациенты пользовались гораздо
большей свободой, чем в больницах такого типа. Ничто не должно было напоминать им о болезни —
таков был основной принцип лечения. Врачи и больные вместе собирались за трапезой, вечерами музицировали,
читали вслух, что исключительно благотворно влияло на пациентов.
Вера Александровна, окончившая дрезденскую консерваторию, имела и медицинское образование и
поддержала идею мужа. Супруги приобрели дачу господина Истомина в Петровском парке с двумя
одноэтажными деревянными флигелями и радикально их перестроили по плану самого доктора, чтобы
больничный корпус представлял собой как бы одну большую квартиру. Сад привели в порядок и проложили дорожки для прогулок.
В своей «санатории» Усольцев создал особый климат добросердечия, внимания и уважения к личности
больного. Лечебница была устроена на манер домашнего пансиона, и пациенты пользовались гораздо
большей свободой, чем в больницах такого типа. Ничто не должно было напоминать им о болезни —
таков был основной принцип лечения. Врачи и больные вместе собирались за трапезой, вечерами музицировали,
читали вслух, что исключительно благотворно влияло на пациентов.
Реклама сообщала: «В лечебнице проводится семейный режим, и весь строй лечебницы приноровлен к условиям домашней семейной жизни. При лечебнице имеется собственный парк в две десятины и фруктовый сад. Лечебница помещается в нескольких отдельных зданиях, что дает возможность лучшей индивидуализации больных. Плата за отдельную комнату от 120–150 рублей и выше в зависимости от помещения». В государственных лечебницах плата тогда составляла три рубля. Новая больница быстро получила известность. Федор Арсеньевич был дружен с В.А. Гиляровским, В.М. Васнецовым, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, В.Д. Поленовым и другими знаменитостями, одним из первых российских психиатров стал интересоваться творчеством душевнобольных, и его пациенты в основном принадлежали к литературно-художественным кругам.
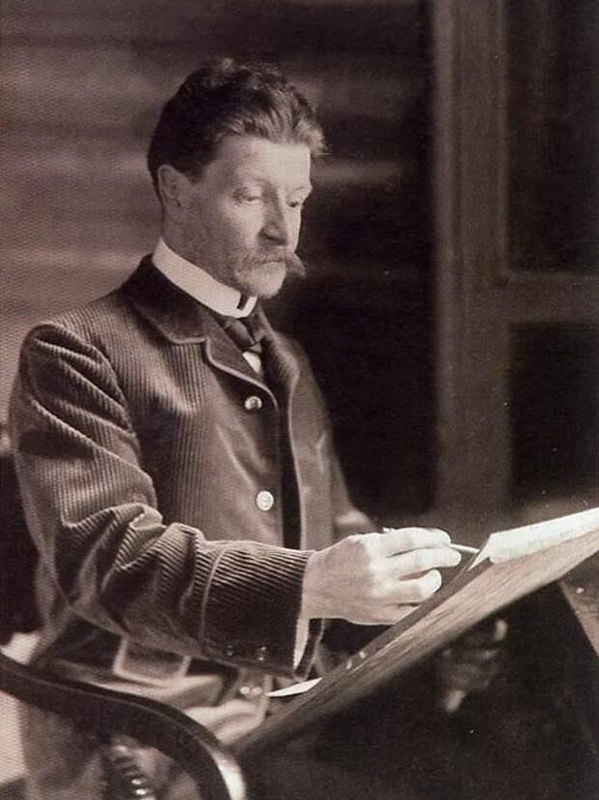 Самым знаменитым из них был Михаил Александрович Врубель, попавший
в клинику летом 1904 года. До этого
он лечился у В.М. Бехтерева и В.П. Сербского, который и посоветовал ему
пожить в санатории для завершения лечения.
Самым знаменитым из них был Михаил Александрович Врубель, попавший
в клинику летом 1904 года. До этого
он лечился у В.М. Бехтерева и В.П. Сербского, который и посоветовал ему
пожить в санатории для завершения лечения.
 Жена художника, певица Надежда Забела, и его сестра Анна поселились неподалеку от клиники
Усольцева, и Михаил
Александрович мог их ежедневно навещать.
Усольцев всячески поощрял творчество Врубеля, который
делал множество карандашных рисунков, портретов врачей,
санитарок, больных. На портрете самого доктора он написал
«Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля».
Позже Усольцев вспоминал: «Из длинной вереницы прошедших передо мною людей, душевный спектр
которых разложила болезнь,
его спектр был самый богатый и самый яркий, и этот спектр показал до неоспоримости ясно, что это
был художник-творец, всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности. Он творил всегда,
можно сказать, непрерывно, и творчество было для него так
же легко и так же необходимо, как дыхание.
Жена художника, певица Надежда Забела, и его сестра Анна поселились неподалеку от клиники
Усольцева, и Михаил
Александрович мог их ежедневно навещать.
Усольцев всячески поощрял творчество Врубеля, который
делал множество карандашных рисунков, портретов врачей,
санитарок, больных. На портрете самого доктора он написал
«Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля».
Позже Усольцев вспоминал: «Из длинной вереницы прошедших передо мною людей, душевный спектр
которых разложила болезнь,
его спектр был самый богатый и самый яркий, и этот спектр показал до неоспоримости ясно, что это
был художник-творец, всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности. Он творил всегда,
можно сказать, непрерывно, и творчество было для него так
же легко и так же необходимо, как дыхание.
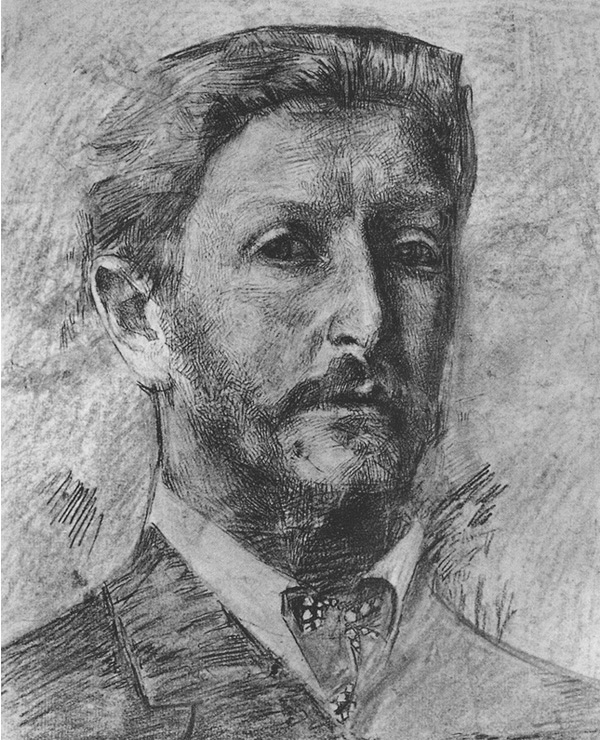 Пока жив человек — он все дышит; пока дышал Врубель — он все творил.
Когда он брал лист бумаги, то вся картина была уже на ней
перед его умственным взором, и он начинал воспроизводить
ее так, как ребенок воспроизводит картину на восковой бумаге, обводя по частям ее контуры и вырисовывая отдельные
уголки. Он никогда не рисовал эскизами, а, набросав несколько угловатых линий, прямо начинал детально вырисовывать
какой-нибудь уголок будущей картины и часто начинал с орнамента, с узора, который очень любил. Часто случалось, что,
тщательно вырисовав какую-нибудь деталь, уголок картины
и общими штрихами наметив ее образ, он бросал свое произведение, и оно так и оставалось неоконченным. Новые воз-
никшие образы вытесняли старые. А бывало и так, что, начав вырисовывать деталь, он так увлекался, что картина не
умещалась на бумаге и приходилось подклеивать.
Пока жив человек — он все дышит; пока дышал Врубель — он все творил.
Когда он брал лист бумаги, то вся картина была уже на ней
перед его умственным взором, и он начинал воспроизводить
ее так, как ребенок воспроизводит картину на восковой бумаге, обводя по частям ее контуры и вырисовывая отдельные
уголки. Он никогда не рисовал эскизами, а, набросав несколько угловатых линий, прямо начинал детально вырисовывать
какой-нибудь уголок будущей картины и часто начинал с орнамента, с узора, который очень любил. Часто случалось, что,
тщательно вырисовав какую-нибудь деталь, уголок картины
и общими штрихами наметив ее образ, он бросал свое произведение, и оно так и оставалось неоконченным. Новые воз-
никшие образы вытесняли старые. А бывало и так, что, начав вырисовывать деталь, он так увлекался, что картина не
умещалась на бумаге и приходилось подклеивать.

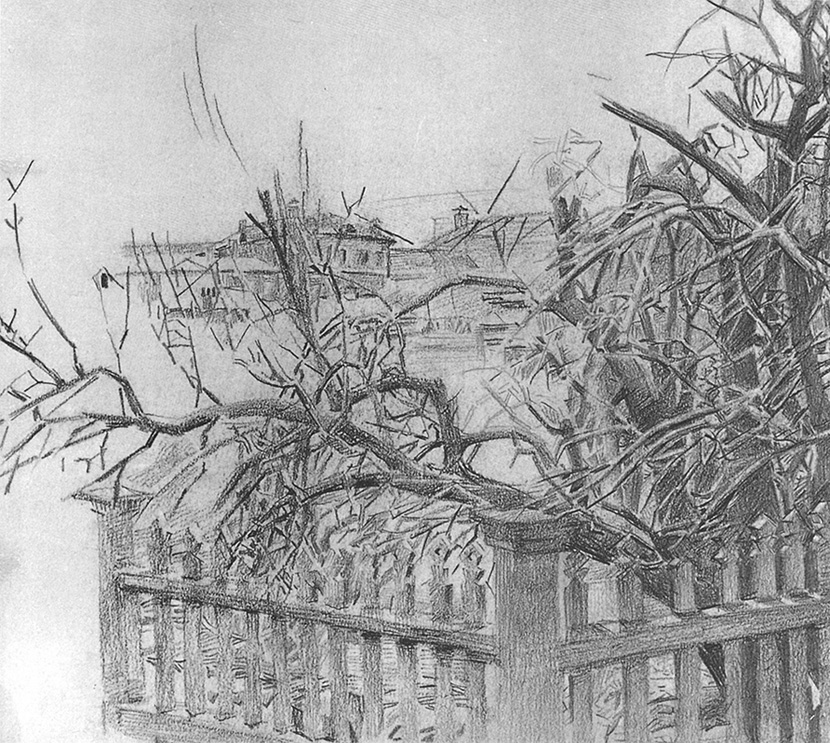 Я видел его на крайних ступенях возбуждения и спутанности, болезненного подъема чувства и мысли, головокружительной быстроты
идей, когда телесные средства не поспевали за их несущимся вихрем. И он все-таки творил. Он покрывал стены своего домика фантастическими
и, казалось, нелепыми линиями и красками. Он лепил из глины и всего,
что попадало под руку, чудовищно-нелепые фигуры. Но стоило прислушаться к его речам, вникнуть в них, — и нелепость,
казалось, исчезала. Были понятны эти обрывки, не поспевавшие за своим неудержимо несущимся, но ярким образом».
Я видел его на крайних ступенях возбуждения и спутанности, болезненного подъема чувства и мысли, головокружительной быстроты
идей, когда телесные средства не поспевали за их несущимся вихрем. И он все-таки творил. Он покрывал стены своего домика фантастическими
и, казалось, нелепыми линиями и красками. Он лепил из глины и всего,
что попадало под руку, чудовищно-нелепые фигуры. Но стоило прислушаться к его речам, вникнуть в них, — и нелепость,
казалось, исчезала. Были понятны эти обрывки, не поспевавшие за своим неудержимо несущимся, но ярким образом».
 Существует версия, что именно Врубелю принадлежит
эскиз въездных ворот, малой калитки и ограды клиники, которую спроектировал Федор Шехтель в 1904–1905 годах. Ограда
выполнена в стиле крепостных сооружений древнерусских
кремлей, а ее столбы завершаются двухъярусными шатрами. Хотя точного подтверждения авторства Врубеля нет, однако на выставке
в Третьяковской галерее представлен камин «Встреча Вольги Святославовича с Микулой Селяниновичем»,
выполненный по эскизу Врубеля в 1899–1900 годах
и напоминающий «сказочные» ворота клиники.
В конце 1904 года художник с женой уехал в Санкт-Петербург, но в марте 1905 года попросил вызвать доктора
Усольцева. Словно прощаясь, он пригласил к себе друзей
и своего любимого учителя Павла Петровича Чистякова, побывал на выставке «Нового общества художников», вместе
с Федором Арсеньевичем посетил Панаевский театр, где некогда увидел свою будущую жену, а на следующее утро доктор увез его в Москву.
Позже Врубель проходил лечение в петербургских клиниках. Это объяснялось семейными причинами: его жена пела
в Мариинском оперном театре. Умер он в Петербурге 1 апреля 1910 года.
Печальные события не обошли стороной и Усольцевых.
В 1909 году у жены Федора Арсеньевича обнаружилось психическое заболевание, а вскоре заболела и дочь Антонида,
студентка медицинского факультета Сорбонны.
Большую часть усадьбы доктор был вынужден продать Александре Ивановне Коншиной, супруге фабриканта Ивана Николаевича Коншина,
но лечебницу сохранил, и позже, в 1915 году,
здесь был открыт госпиталь Союза земств и городов для
лечения солдат с ранениями в голову и нервнобольных.
В части усадьбы, купленной Коншиной, был устроен и 8 сентября 1914 года освящен санаторий для увечных воинов.
Сама Александра Ивановна болела, на открытии не присутствовала, а 26 сентября скончалась.
В годы Первой мировой войны санаторий, получивший ее имя, часто посещали члены
царской фамилии, 21 мая 1915 года там побывала и великая
княгиня Елизавета Феодоровна.
После октябрьского переворота госпиталь Союза земств
и городов перешел в ведение Мосздравотдела. Первое время в нем лечились раненые и контуженные солдаты,
вернувшиеся с фронтов гражданской войны, а в 1919 году Усольцев
организовал на его базе санаторий для нервнобольных и до
1922 года был его заведующим. Под конец жизни Федор Арсеньевич потерял зрение. Умер он в 1947 году.
Санаторий Усольцева в 1929 году был переименован в психоневрологический санаторий 8 Марта, а на следующий год
преобразован в Московскую областную психоневрологическую клинику. Истоминский проезд, на который она
выходила, с 1936 года стал называться улицей 8 Марта. С 1943 по
1951 год клинику возглавлял доктор медицины, профессор,
заслуженный деятель науки, один из создателей отечественной судебной психиатрии Евгений Константинович Краснушкин.
Ныне это Центральная Московская областная клиническая психиатрическая больница.
В 1960–70-е годы на территории больницы построены новые лечебные корпуса. В 2006 году ограда после замены
нескольких деревянных блоков на металлические поставлена
на охрану как объект культурного наследия Москвы.
Существует версия, что именно Врубелю принадлежит
эскиз въездных ворот, малой калитки и ограды клиники, которую спроектировал Федор Шехтель в 1904–1905 годах. Ограда
выполнена в стиле крепостных сооружений древнерусских
кремлей, а ее столбы завершаются двухъярусными шатрами. Хотя точного подтверждения авторства Врубеля нет, однако на выставке
в Третьяковской галерее представлен камин «Встреча Вольги Святославовича с Микулой Селяниновичем»,
выполненный по эскизу Врубеля в 1899–1900 годах
и напоминающий «сказочные» ворота клиники.
В конце 1904 года художник с женой уехал в Санкт-Петербург, но в марте 1905 года попросил вызвать доктора
Усольцева. Словно прощаясь, он пригласил к себе друзей
и своего любимого учителя Павла Петровича Чистякова, побывал на выставке «Нового общества художников», вместе
с Федором Арсеньевичем посетил Панаевский театр, где некогда увидел свою будущую жену, а на следующее утро доктор увез его в Москву.
Позже Врубель проходил лечение в петербургских клиниках. Это объяснялось семейными причинами: его жена пела
в Мариинском оперном театре. Умер он в Петербурге 1 апреля 1910 года.
Печальные события не обошли стороной и Усольцевых.
В 1909 году у жены Федора Арсеньевича обнаружилось психическое заболевание, а вскоре заболела и дочь Антонида,
студентка медицинского факультета Сорбонны.
Большую часть усадьбы доктор был вынужден продать Александре Ивановне Коншиной, супруге фабриканта Ивана Николаевича Коншина,
но лечебницу сохранил, и позже, в 1915 году,
здесь был открыт госпиталь Союза земств и городов для
лечения солдат с ранениями в голову и нервнобольных.
В части усадьбы, купленной Коншиной, был устроен и 8 сентября 1914 года освящен санаторий для увечных воинов.
Сама Александра Ивановна болела, на открытии не присутствовала, а 26 сентября скончалась.
В годы Первой мировой войны санаторий, получивший ее имя, часто посещали члены
царской фамилии, 21 мая 1915 года там побывала и великая
княгиня Елизавета Феодоровна.
После октябрьского переворота госпиталь Союза земств
и городов перешел в ведение Мосздравотдела. Первое время в нем лечились раненые и контуженные солдаты,
вернувшиеся с фронтов гражданской войны, а в 1919 году Усольцев
организовал на его базе санаторий для нервнобольных и до
1922 года был его заведующим. Под конец жизни Федор Арсеньевич потерял зрение. Умер он в 1947 году.
Санаторий Усольцева в 1929 году был переименован в психоневрологический санаторий 8 Марта, а на следующий год
преобразован в Московскую областную психоневрологическую клинику. Истоминский проезд, на который она
выходила, с 1936 года стал называться улицей 8 Марта. С 1943 по
1951 год клинику возглавлял доктор медицины, профессор,
заслуженный деятель науки, один из создателей отечественной судебной психиатрии Евгений Константинович Краснушкин.
Ныне это Центральная Московская областная клиническая психиатрическая больница.
В 1960–70-е годы на территории больницы построены новые лечебные корпуса. В 2006 году ограда после замены
нескольких деревянных блоков на металлические поставлена
на охрану как объект культурного наследия Москвы.
 Поднят вопрос о реставрации главного дома — двухэтажного деревянного здания на каменном фундаменте. Сам дом, а также
сохранившиеся стена оранжереи и хозяйственная постройка
также отнесены к объектам культурного наследия.
Силами нашего прихода здание больничной библиотеки
перестроено под храм, освященный в честь мученика Вонифания. Еженедельно здесь совершаются литургия и молебен,
поет сестрический хор.
В настоящее время новое руководство клиники обсуждает
вопрос о присвоении ей имени доктора Ф.А. Усольцева и создании в приемном отделении музея.
Поднят вопрос о реставрации главного дома — двухэтажного деревянного здания на каменном фундаменте. Сам дом, а также
сохранившиеся стена оранжереи и хозяйственная постройка
также отнесены к объектам культурного наследия.
Силами нашего прихода здание больничной библиотеки
перестроено под храм, освященный в честь мученика Вонифания. Еженедельно здесь совершаются литургия и молебен,
поет сестрический хор.
В настоящее время новое руководство клиники обсуждает
вопрос о присвоении ей имени доктора Ф.А. Усольцева и создании в приемном отделении музея.
Когда у Патриарха Алексия брали благословение на открытие храма, он сказал, что надо освятить его в честь мученика Вонифатия, которому молятся об исцелении от алкогольной и наркотической зависимости, — ведь в больнице много алкоголиков и наркоманов.
1 января 1998 года, в день памяти святого мученика Вонифатия, в храме была совершена первая Божественная литургия.
История лечебницы
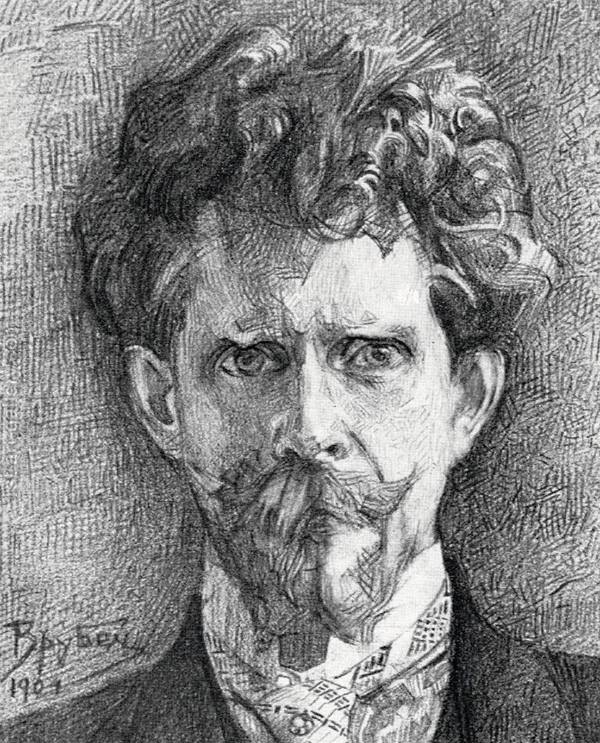
6 марта 1903 года в Петровском парке, бывшем в то время дачной окраиной Москвы, врач-психиатр Федор Арсеньевич Усольцев открыл частную лечебницу-санаторий для нервно — и душевнобольных и алкоголиков. Федор Усольцев, сын топографа, исследователя Сибири и Дальнего Востока Арсения Усольцева, был незаурядным человеком и новатором в своей области. Выпускник Московского университета, ученик выдающегося психиатра Сергея Сергеевича Корсакова, он перехал в Кострому и работал в психиатрическом отделении губернской земской больницы, а позже, когда его жена Вера Александровна получила значительное наследство, задумал открыть собственную клинику.
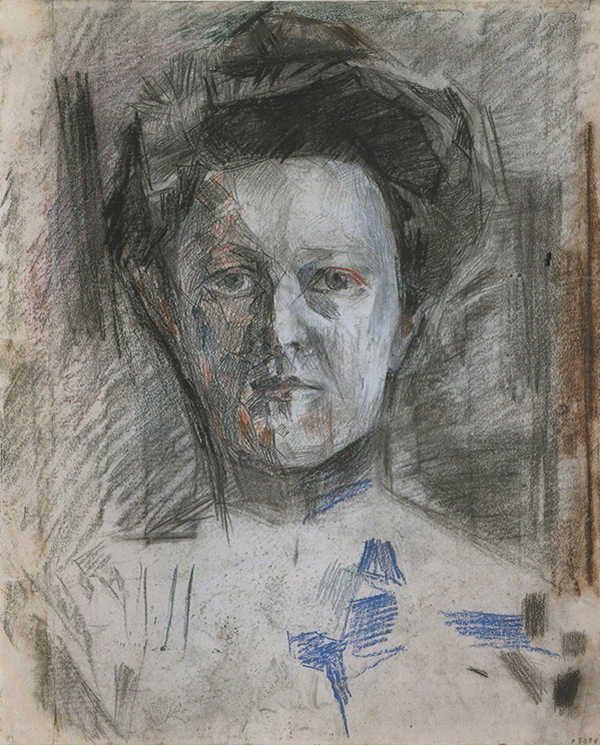 Вера Александровна, окончившая дрезденскую консерваторию, имела и медицинское образование и
поддержала идею мужа. Супруги приобрели дачу господина Истомина в Петровском парке с двумя
одноэтажными деревянными флигелями и радикально их перестроили по плану самого доктора, чтобы
больничный корпус представлял собой как бы одну большую квартиру. Сад привели в порядок и проложили дорожки для прогулок.
В своей «санатории» Усольцев создал особый климат добросердечия, внимания и уважения к личности
больного. Лечебница была устроена на манер домашнего пансиона, и пациенты пользовались гораздо
большей свободой, чем в больницах такого типа. Ничто не должно было напоминать им о болезни —
таков был основной принцип лечения. Врачи и больные вместе собирались за трапезой, вечерами музицировали,
читали вслух, что исключительно благотворно влияло на пациентов.
Вера Александровна, окончившая дрезденскую консерваторию, имела и медицинское образование и
поддержала идею мужа. Супруги приобрели дачу господина Истомина в Петровском парке с двумя
одноэтажными деревянными флигелями и радикально их перестроили по плану самого доктора, чтобы
больничный корпус представлял собой как бы одну большую квартиру. Сад привели в порядок и проложили дорожки для прогулок.
В своей «санатории» Усольцев создал особый климат добросердечия, внимания и уважения к личности
больного. Лечебница была устроена на манер домашнего пансиона, и пациенты пользовались гораздо
большей свободой, чем в больницах такого типа. Ничто не должно было напоминать им о болезни —
таков был основной принцип лечения. Врачи и больные вместе собирались за трапезой, вечерами музицировали,
читали вслух, что исключительно благотворно влияло на пациентов.Реклама сообщала: «В лечебнице проводится семейный режим, и весь строй лечебницы приноровлен к условиям домашней семейной жизни. При лечебнице имеется собственный парк в две десятины и фруктовый сад. Лечебница помещается в нескольких отдельных зданиях, что дает возможность лучшей индивидуализации больных. Плата за отдельную комнату от 120–150 рублей и выше в зависимости от помещения». В государственных лечебницах плата тогда составляла три рубля. Новая больница быстро получила известность. Федор Арсеньевич был дружен с В.А. Гиляровским, В.М. Васнецовым, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, В.Д. Поленовым и другими знаменитостями, одним из первых российских психиатров стал интересоваться творчеством душевнобольных, и его пациенты в основном принадлежали к литературно-художественным кругам.
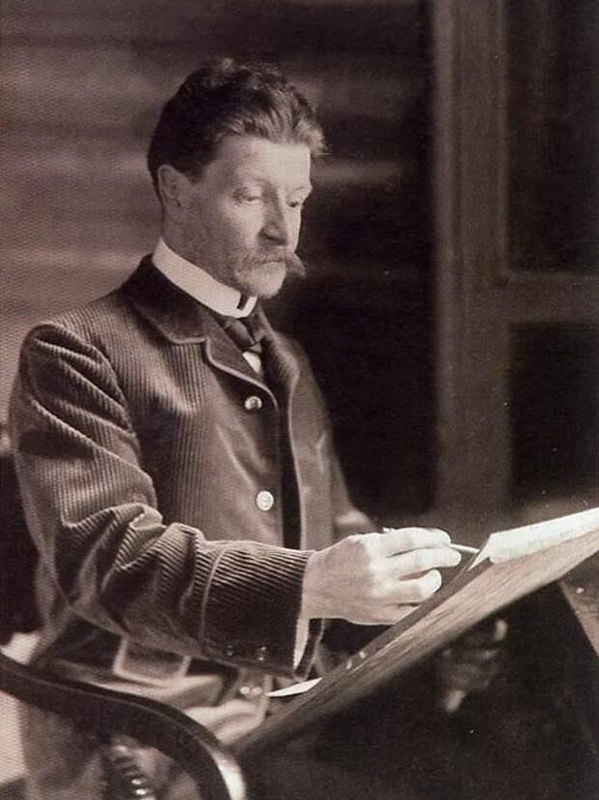 Самым знаменитым из них был Михаил Александрович Врубель, попавший
в клинику летом 1904 года. До этого
он лечился у В.М. Бехтерева и В.П. Сербского, который и посоветовал ему
пожить в санатории для завершения лечения.
Самым знаменитым из них был Михаил Александрович Врубель, попавший
в клинику летом 1904 года. До этого
он лечился у В.М. Бехтерева и В.П. Сербского, который и посоветовал ему
пожить в санатории для завершения лечения. Жена художника, певица Надежда Забела, и его сестра Анна поселились неподалеку от клиники
Усольцева, и Михаил
Александрович мог их ежедневно навещать.
Усольцев всячески поощрял творчество Врубеля, который
делал множество карандашных рисунков, портретов врачей,
санитарок, больных. На портрете самого доктора он написал
«Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля».
Позже Усольцев вспоминал: «Из длинной вереницы прошедших передо мною людей, душевный спектр
которых разложила болезнь,
его спектр был самый богатый и самый яркий, и этот спектр показал до неоспоримости ясно, что это
был художник-творец, всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности. Он творил всегда,
можно сказать, непрерывно, и творчество было для него так
же легко и так же необходимо, как дыхание.
Жена художника, певица Надежда Забела, и его сестра Анна поселились неподалеку от клиники
Усольцева, и Михаил
Александрович мог их ежедневно навещать.
Усольцев всячески поощрял творчество Врубеля, который
делал множество карандашных рисунков, портретов врачей,
санитарок, больных. На портрете самого доктора он написал
«Дорогому и многоуважаемому Федору Арсеньевичу от воскресшего М. Врубеля».
Позже Усольцев вспоминал: «Из длинной вереницы прошедших передо мною людей, душевный спектр
которых разложила болезнь,
его спектр был самый богатый и самый яркий, и этот спектр показал до неоспоримости ясно, что это
был художник-творец, всем своим существом, до самых глубоких тайников психической личности. Он творил всегда,
можно сказать, непрерывно, и творчество было для него так
же легко и так же необходимо, как дыхание.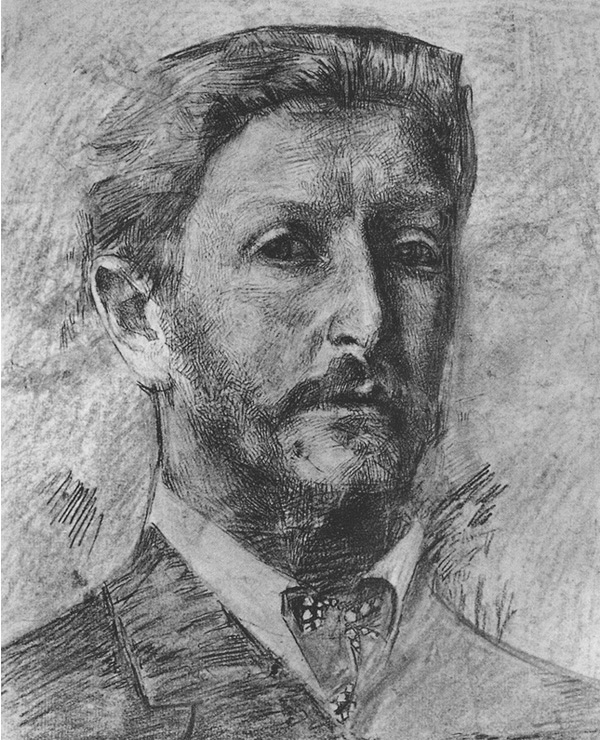 Пока жив человек — он все дышит; пока дышал Врубель — он все творил.
Когда он брал лист бумаги, то вся картина была уже на ней
перед его умственным взором, и он начинал воспроизводить
ее так, как ребенок воспроизводит картину на восковой бумаге, обводя по частям ее контуры и вырисовывая отдельные
уголки. Он никогда не рисовал эскизами, а, набросав несколько угловатых линий, прямо начинал детально вырисовывать
какой-нибудь уголок будущей картины и часто начинал с орнамента, с узора, который очень любил. Часто случалось, что,
тщательно вырисовав какую-нибудь деталь, уголок картины
и общими штрихами наметив ее образ, он бросал свое произведение, и оно так и оставалось неоконченным. Новые воз-
никшие образы вытесняли старые. А бывало и так, что, начав вырисовывать деталь, он так увлекался, что картина не
умещалась на бумаге и приходилось подклеивать.
Пока жив человек — он все дышит; пока дышал Врубель — он все творил.
Когда он брал лист бумаги, то вся картина была уже на ней
перед его умственным взором, и он начинал воспроизводить
ее так, как ребенок воспроизводит картину на восковой бумаге, обводя по частям ее контуры и вырисовывая отдельные
уголки. Он никогда не рисовал эскизами, а, набросав несколько угловатых линий, прямо начинал детально вырисовывать
какой-нибудь уголок будущей картины и часто начинал с орнамента, с узора, который очень любил. Часто случалось, что,
тщательно вырисовав какую-нибудь деталь, уголок картины
и общими штрихами наметив ее образ, он бросал свое произведение, и оно так и оставалось неоконченным. Новые воз-
никшие образы вытесняли старые. А бывало и так, что, начав вырисовывать деталь, он так увлекался, что картина не
умещалась на бумаге и приходилось подклеивать.
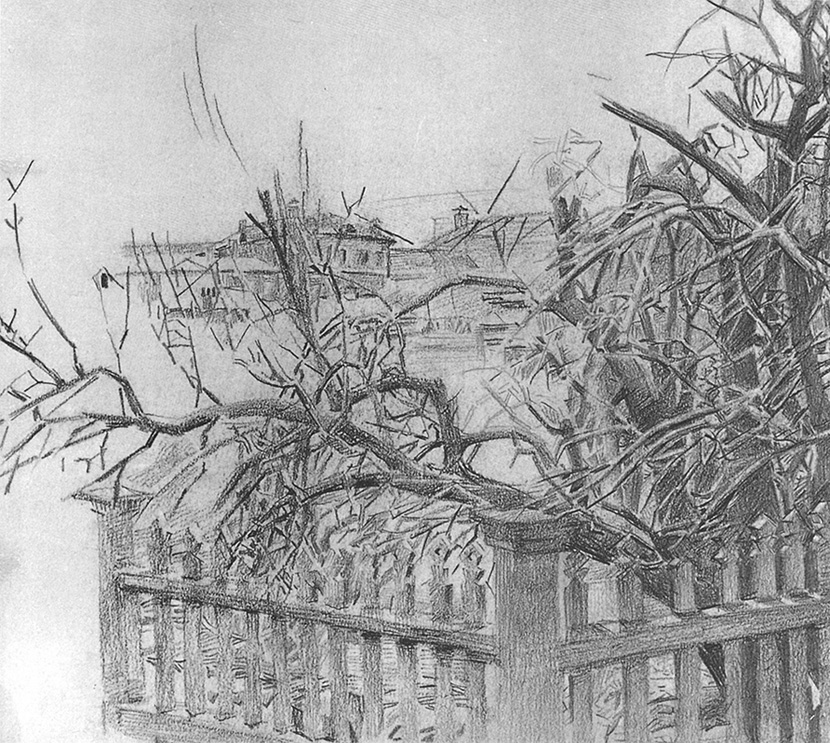 Я видел его на крайних ступенях возбуждения и спутанности, болезненного подъема чувства и мысли, головокружительной быстроты
идей, когда телесные средства не поспевали за их несущимся вихрем. И он все-таки творил. Он покрывал стены своего домика фантастическими
и, казалось, нелепыми линиями и красками. Он лепил из глины и всего,
что попадало под руку, чудовищно-нелепые фигуры. Но стоило прислушаться к его речам, вникнуть в них, — и нелепость,
казалось, исчезала. Были понятны эти обрывки, не поспевавшие за своим неудержимо несущимся, но ярким образом».
Я видел его на крайних ступенях возбуждения и спутанности, болезненного подъема чувства и мысли, головокружительной быстроты
идей, когда телесные средства не поспевали за их несущимся вихрем. И он все-таки творил. Он покрывал стены своего домика фантастическими
и, казалось, нелепыми линиями и красками. Он лепил из глины и всего,
что попадало под руку, чудовищно-нелепые фигуры. Но стоило прислушаться к его речам, вникнуть в них, — и нелепость,
казалось, исчезала. Были понятны эти обрывки, не поспевавшие за своим неудержимо несущимся, но ярким образом». Существует версия, что именно Врубелю принадлежит
эскиз въездных ворот, малой калитки и ограды клиники, которую спроектировал Федор Шехтель в 1904–1905 годах. Ограда
выполнена в стиле крепостных сооружений древнерусских
кремлей, а ее столбы завершаются двухъярусными шатрами. Хотя точного подтверждения авторства Врубеля нет, однако на выставке
в Третьяковской галерее представлен камин «Встреча Вольги Святославовича с Микулой Селяниновичем»,
выполненный по эскизу Врубеля в 1899–1900 годах
и напоминающий «сказочные» ворота клиники.
В конце 1904 года художник с женой уехал в Санкт-Петербург, но в марте 1905 года попросил вызвать доктора
Усольцева. Словно прощаясь, он пригласил к себе друзей
и своего любимого учителя Павла Петровича Чистякова, побывал на выставке «Нового общества художников», вместе
с Федором Арсеньевичем посетил Панаевский театр, где некогда увидел свою будущую жену, а на следующее утро доктор увез его в Москву.
Позже Врубель проходил лечение в петербургских клиниках. Это объяснялось семейными причинами: его жена пела
в Мариинском оперном театре. Умер он в Петербурге 1 апреля 1910 года.
Печальные события не обошли стороной и Усольцевых.
В 1909 году у жены Федора Арсеньевича обнаружилось психическое заболевание, а вскоре заболела и дочь Антонида,
студентка медицинского факультета Сорбонны.
Большую часть усадьбы доктор был вынужден продать Александре Ивановне Коншиной, супруге фабриканта Ивана Николаевича Коншина,
но лечебницу сохранил, и позже, в 1915 году,
здесь был открыт госпиталь Союза земств и городов для
лечения солдат с ранениями в голову и нервнобольных.
В части усадьбы, купленной Коншиной, был устроен и 8 сентября 1914 года освящен санаторий для увечных воинов.
Сама Александра Ивановна болела, на открытии не присутствовала, а 26 сентября скончалась.
В годы Первой мировой войны санаторий, получивший ее имя, часто посещали члены
царской фамилии, 21 мая 1915 года там побывала и великая
княгиня Елизавета Феодоровна.
После октябрьского переворота госпиталь Союза земств
и городов перешел в ведение Мосздравотдела. Первое время в нем лечились раненые и контуженные солдаты,
вернувшиеся с фронтов гражданской войны, а в 1919 году Усольцев
организовал на его базе санаторий для нервнобольных и до
1922 года был его заведующим. Под конец жизни Федор Арсеньевич потерял зрение. Умер он в 1947 году.
Санаторий Усольцева в 1929 году был переименован в психоневрологический санаторий 8 Марта, а на следующий год
преобразован в Московскую областную психоневрологическую клинику. Истоминский проезд, на который она
выходила, с 1936 года стал называться улицей 8 Марта. С 1943 по
1951 год клинику возглавлял доктор медицины, профессор,
заслуженный деятель науки, один из создателей отечественной судебной психиатрии Евгений Константинович Краснушкин.
Ныне это Центральная Московская областная клиническая психиатрическая больница.
В 1960–70-е годы на территории больницы построены новые лечебные корпуса. В 2006 году ограда после замены
нескольких деревянных блоков на металлические поставлена
на охрану как объект культурного наследия Москвы.
Существует версия, что именно Врубелю принадлежит
эскиз въездных ворот, малой калитки и ограды клиники, которую спроектировал Федор Шехтель в 1904–1905 годах. Ограда
выполнена в стиле крепостных сооружений древнерусских
кремлей, а ее столбы завершаются двухъярусными шатрами. Хотя точного подтверждения авторства Врубеля нет, однако на выставке
в Третьяковской галерее представлен камин «Встреча Вольги Святославовича с Микулой Селяниновичем»,
выполненный по эскизу Врубеля в 1899–1900 годах
и напоминающий «сказочные» ворота клиники.
В конце 1904 года художник с женой уехал в Санкт-Петербург, но в марте 1905 года попросил вызвать доктора
Усольцева. Словно прощаясь, он пригласил к себе друзей
и своего любимого учителя Павла Петровича Чистякова, побывал на выставке «Нового общества художников», вместе
с Федором Арсеньевичем посетил Панаевский театр, где некогда увидел свою будущую жену, а на следующее утро доктор увез его в Москву.
Позже Врубель проходил лечение в петербургских клиниках. Это объяснялось семейными причинами: его жена пела
в Мариинском оперном театре. Умер он в Петербурге 1 апреля 1910 года.
Печальные события не обошли стороной и Усольцевых.
В 1909 году у жены Федора Арсеньевича обнаружилось психическое заболевание, а вскоре заболела и дочь Антонида,
студентка медицинского факультета Сорбонны.
Большую часть усадьбы доктор был вынужден продать Александре Ивановне Коншиной, супруге фабриканта Ивана Николаевича Коншина,
но лечебницу сохранил, и позже, в 1915 году,
здесь был открыт госпиталь Союза земств и городов для
лечения солдат с ранениями в голову и нервнобольных.
В части усадьбы, купленной Коншиной, был устроен и 8 сентября 1914 года освящен санаторий для увечных воинов.
Сама Александра Ивановна болела, на открытии не присутствовала, а 26 сентября скончалась.
В годы Первой мировой войны санаторий, получивший ее имя, часто посещали члены
царской фамилии, 21 мая 1915 года там побывала и великая
княгиня Елизавета Феодоровна.
После октябрьского переворота госпиталь Союза земств
и городов перешел в ведение Мосздравотдела. Первое время в нем лечились раненые и контуженные солдаты,
вернувшиеся с фронтов гражданской войны, а в 1919 году Усольцев
организовал на его базе санаторий для нервнобольных и до
1922 года был его заведующим. Под конец жизни Федор Арсеньевич потерял зрение. Умер он в 1947 году.
Санаторий Усольцева в 1929 году был переименован в психоневрологический санаторий 8 Марта, а на следующий год
преобразован в Московскую областную психоневрологическую клинику. Истоминский проезд, на который она
выходила, с 1936 года стал называться улицей 8 Марта. С 1943 по
1951 год клинику возглавлял доктор медицины, профессор,
заслуженный деятель науки, один из создателей отечественной судебной психиатрии Евгений Константинович Краснушкин.
Ныне это Центральная Московская областная клиническая психиатрическая больница.
В 1960–70-е годы на территории больницы построены новые лечебные корпуса. В 2006 году ограда после замены
нескольких деревянных блоков на металлические поставлена
на охрану как объект культурного наследия Москвы. Поднят вопрос о реставрации главного дома — двухэтажного деревянного здания на каменном фундаменте. Сам дом, а также
сохранившиеся стена оранжереи и хозяйственная постройка
также отнесены к объектам культурного наследия.
Силами нашего прихода здание больничной библиотеки
перестроено под храм, освященный в честь мученика Вонифания. Еженедельно здесь совершаются литургия и молебен,
поет сестрический хор.
В настоящее время новое руководство клиники обсуждает
вопрос о присвоении ей имени доктора Ф.А. Усольцева и создании в приемном отделении музея.
Поднят вопрос о реставрации главного дома — двухэтажного деревянного здания на каменном фундаменте. Сам дом, а также
сохранившиеся стена оранжереи и хозяйственная постройка
также отнесены к объектам культурного наследия.
Силами нашего прихода здание больничной библиотеки
перестроено под храм, освященный в честь мученика Вонифания. Еженедельно здесь совершаются литургия и молебен,
поет сестрический хор.
В настоящее время новое руководство клиники обсуждает
вопрос о присвоении ей имени доктора Ф.А. Усольцева и создании в приемном отделении музея.