Певческая школа
 Интервью с Татьяной Павловной Герасимовой
Интервью с Татьяной Павловной ГерасимовойТатьяна Герасимова:
Я уже регентовала, когда староста Крестовоздвиженского храма в Алтуфьево объявил, что хочет взять на работу выпускника регентской школы. Мы с отцом Дмитрием так поняли, что ему нужен дипломированный руководитель хора, и батюшка отправил меня в эту самую школу учиться. Когда в Алтуфьево началась воскресная школа, все держали в тайне. Занятия с детьми проходили у Люси, дочери Елены Александровны Рудченко. Отец Дмитрий преподавал богословские предметы. Елена Александровна была бесценным человеком; а сколько людей она привела в храм... Она преподавала английский в МГУ, и с ней в нашем приходе появилось много интеллигенции — физики, филологи. Отец Владимир Леонов был ее студентом. В трехкомнатной квартире недалеко от храма жили Женя и Наташа Бабаевы, у них тоже очень много всего происходило, во всяком случае, сначала мы все собирались у них. Одной из первых пришла работать в Алтуфьево Таня Морозова — уборщицей. Танину дочку Катю помню лет с трех: маленький колобочек с невероятной скоростью летал по дорожкам вокруг Крестовоздвиженского храма. Потом в Митрофаниевском Таня стала ризничей, думаю, все первые облачения сшиты ею. Удивительно талантливый человек. Она и шила, и готовила потрясающе, а главное, делала все тихо, без напора, с любовью. Таня подготовила для клироса альбомы с текстами и нотами: службы Рождества, Пасхи, двунадесятых праздников написаны ее рукой — чисто, красиво, отчетливо. В Алтуфьеве она пела и читала. Здесь, когда здоровье ухудшилось, сказала, что петь ей трудно, но продолжала читать часы и последование ко причащению. Таня очень дружила с Валентиной Юдиной. Они все делали вместе, Валя больше как уборщица, Таня — как ризничая. Все первые украшения для храма изготовлены Таней, и все наши традиции идут от нее...
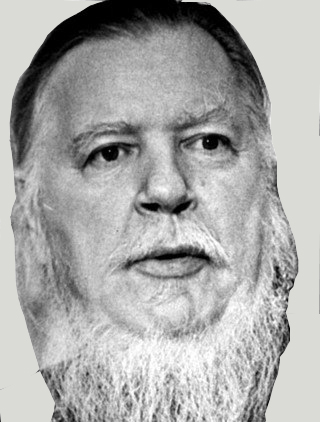 Отец Дмитрий сначала был в Крестовоздвиженском храме вторым священником, потом стал третьим,
и его ставили на самые неудобные службы. Помню, как на Светлой седмице он служил то ли в пятницу,
то ли в субботу; всю неделю была отвратительная погода, а в этот день наконец просияло солнце.
Конечно, батюшке всячески препятствовали, и вообще, молодежь в храме отнюдь не приветствовалась.
Но вот все-таки потихонечку началась перестройка, и ему дали храм на Хуторской улице.
На первом собрании отец Дмитрий нам представил старосту Василия Сергеевича, а еще я там увидела
Анну Дмитриевну Рой: мы с ней вместе учились в музыкальном училище при консерватории, правда,
она была на курс старше меня, и мы близко познакомились только в храме святителя Митрофана.
Отец Дмитрий сначала был в Крестовоздвиженском храме вторым священником, потом стал третьим,
и его ставили на самые неудобные службы. Помню, как на Светлой седмице он служил то ли в пятницу,
то ли в субботу; всю неделю была отвратительная погода, а в этот день наконец просияло солнце.
Конечно, батюшке всячески препятствовали, и вообще, молодежь в храме отнюдь не приветствовалась.
Но вот все-таки потихонечку началась перестройка, и ему дали храм на Хуторской улице.
На первом собрании отец Дмитрий нам представил старосту Василия Сергеевича, а еще я там увидела
Анну Дмитриевну Рой: мы с ней вместе учились в музыкальном училище при консерватории, правда,
она была на курс старше меня, и мы близко познакомились только в храме святителя Митрофана.
 В Алтуфьеве по большей части трудились женщины, а здесь организационная работа сразу легла на мужские
плечи. Очень скоро появился и архитектор Сергей Яковлевич Кузнецов, он жил неподалеку. И многие из
этого района постепенно стали сюда ходить. Для меня тоже это место — малая родина, я жила здесь от
рождения до пяти лет, и все мои родственники отсюда. Наша семья переехала на «Войковскую», а потом
мы специально поменялись в Алтуфьево, потому что мне приходилось чуть ли не каждый день ездить туда
на автобусах и троллейбусах. Эта квартира рядом с храмом использовалась для занятий детского хора.
Назову имена тех детей: Катя Морозова (теперь она Шишкина), Лена Устенко
(матушка отца Дмитрия Николаева), Катя Семенова, Полина Зыкова, Женя Мурзин, конечно же,
Феодосий Мамырев. Матушка Лариса Леонова жила рядышком, она начала заниматься в хоре лет в 16.
Когда мы переехали в Митрофаниевский, к нам пришел Илюша Ильясов. Ему тоже было лет 16, потом
он один институт окончил, другой, все на наших глазах. Приблизительно одновременно появились
Катя Грошева, Катя Маслова, Костя Мосин и Лиза Занина, Антон Шишкин и Антон Дьячков, Маша Бабеева...
Когда открылся Благовещенский храм, отец Дмитрий поделил наш маленький хор, и дети остались у меня.
Через некоторое время я вдруг понимаю, что те, на ком держится пение, это именно дети — они запели.
Они ведь очень этого хотели. Когда мы их еще не брали на все службы, они стояли внизу и все время
смотрели наверх, очень, очень выразительно смотрели. Скоро они поднялись на этот балкончик, а потом
стали основной движущей силой хора.
В Алтуфьеве по большей части трудились женщины, а здесь организационная работа сразу легла на мужские
плечи. Очень скоро появился и архитектор Сергей Яковлевич Кузнецов, он жил неподалеку. И многие из
этого района постепенно стали сюда ходить. Для меня тоже это место — малая родина, я жила здесь от
рождения до пяти лет, и все мои родственники отсюда. Наша семья переехала на «Войковскую», а потом
мы специально поменялись в Алтуфьево, потому что мне приходилось чуть ли не каждый день ездить туда
на автобусах и троллейбусах. Эта квартира рядом с храмом использовалась для занятий детского хора.
Назову имена тех детей: Катя Морозова (теперь она Шишкина), Лена Устенко
(матушка отца Дмитрия Николаева), Катя Семенова, Полина Зыкова, Женя Мурзин, конечно же,
Феодосий Мамырев. Матушка Лариса Леонова жила рядышком, она начала заниматься в хоре лет в 16.
Когда мы переехали в Митрофаниевский, к нам пришел Илюша Ильясов. Ему тоже было лет 16, потом
он один институт окончил, другой, все на наших глазах. Приблизительно одновременно появились
Катя Грошева, Катя Маслова, Костя Мосин и Лиза Занина, Антон Шишкин и Антон Дьячков, Маша Бабеева...
Когда открылся Благовещенский храм, отец Дмитрий поделил наш маленький хор, и дети остались у меня.
Через некоторое время я вдруг понимаю, что те, на ком держится пение, это именно дети — они запели.
Они ведь очень этого хотели. Когда мы их еще не брали на все службы, они стояли внизу и все время
смотрели наверх, очень, очень выразительно смотрели. Скоро они поднялись на этот балкончик, а потом
стали основной движущей силой хора.
 У них была очень интересная жизнь. В основном они учились в разных местах и встречались только
в воскресной школе и в храме. У нас были походы, праздники, а потом уже пошли и свадьбы.
Интересный поход был в Радонеж, нас водил туда отец Алексей Емельянов, тогда просто Леша
Емельянов, а дети наши были еще совсем маленькие. К Косте на дачу мы не просто ехали,
а тоже шли походом. В Алтуфьево ездили, на источник Макария Желтоводского, потом устраивали
там пикник с разными играми. А еще был такой Алексей Никифорович, алтуфьевский алтарник,
который нас регулярно вывозил к Тихону Калужскому. Каждый год в начале октября, на преподобного
Сергия, мы туда ездили, погружались в источник. У нас всегда организовывались для детей
какие-то интересные поездки, и это, конечно, очень сильно их сплотило.
У них была очень интересная жизнь. В основном они учились в разных местах и встречались только
в воскресной школе и в храме. У нас были походы, праздники, а потом уже пошли и свадьбы.
Интересный поход был в Радонеж, нас водил туда отец Алексей Емельянов, тогда просто Леша
Емельянов, а дети наши были еще совсем маленькие. К Косте на дачу мы не просто ехали,
а тоже шли походом. В Алтуфьево ездили, на источник Макария Желтоводского, потом устраивали
там пикник с разными играми. А еще был такой Алексей Никифорович, алтуфьевский алтарник,
который нас регулярно вывозил к Тихону Калужскому. Каждый год в начале октября, на преподобного
Сергия, мы туда ездили, погружались в источник. У нас всегда организовывались для детей
какие-то интересные поездки, и это, конечно, очень сильно их сплотило.
 Замечательно, что возле храма живет Инна Степановна, у которой дети и все мы постоянно бывали.
И спевки проводили, и просто приходили в гости. Дети просто гурьбой туда шли, ели, пили, ночевали.
Какое-то удивительное было время, необыкновенное. То запретное, что надо было прятать, ни в коем
случае не показывать, можно было делать открыто — учить детей и молодежь церковному пению, привлекать
их к службам. Ведь когда я пришла на клирос, там стояли исключительно бабушки. Сначала я была среди
них одна, потом с Ирой Александровой и Галей Захаровой нас стало трое. Позже появился Сережа Миронов.
А уж когда мы сюда переехали, то пока сами не состарились, у нас никаких бабушек не было.
Приходили замечательные люди. Например, плотник Алексей Талызов. Поскольку он раньше пел в храме,
естественно, ему пришлось трудиться и плотником, и певчим. Он любил петь, умел, знал много распевов.
В алтарь он попал позже, но и дьяконом, и священником отец Алексей мог встать на клирос и спеть,
например, стихиры на вечерне.
Замечательно, что возле храма живет Инна Степановна, у которой дети и все мы постоянно бывали.
И спевки проводили, и просто приходили в гости. Дети просто гурьбой туда шли, ели, пили, ночевали.
Какое-то удивительное было время, необыкновенное. То запретное, что надо было прятать, ни в коем
случае не показывать, можно было делать открыто — учить детей и молодежь церковному пению, привлекать
их к службам. Ведь когда я пришла на клирос, там стояли исключительно бабушки. Сначала я была среди
них одна, потом с Ирой Александровой и Галей Захаровой нас стало трое. Позже появился Сережа Миронов.
А уж когда мы сюда переехали, то пока сами не состарились, у нас никаких бабушек не было.
Приходили замечательные люди. Например, плотник Алексей Талызов. Поскольку он раньше пел в храме,
естественно, ему пришлось трудиться и плотником, и певчим. Он любил петь, умел, знал много распевов.
В алтарь он попал позже, но и дьяконом, и священником отец Алексей мог встать на клирос и спеть,
например, стихиры на вечерне.  Первые спевки в Митрофаниевском длились подолгу, потому что в Алтуфьеве мы были левым хором и
многих песнопений не пели никогда. Прошел год, приближался Великий пост, и пришлось разучивать
целые службы — в частности, Страстной седмицы. Это грандиозный объем. Конечно, на первом этапе
старались петь как можно проще, но постепенно наш репертуар расширялся. Детям эта работа была
в радость, потому что им нравилось быть вместе. Их никто не заставлял часами сидеть на спевках,
это было их личное горячее желание. Такое рвение и усердие достойны всяческой похвалы.
И нужно отметить, что дети пришли не сами по себе, а с семьями, и это были очень хорошие
семьи — Морозовы, Устенко, Семеновы, Зыковы, многодетные семьи Мамыревых, Пробатовых... Дети выросли,
но продолжают дружить, это поколение со своими уже многочисленными детьми сейчас составляет молодой
костяк общины.
Первые спевки в Митрофаниевском длились подолгу, потому что в Алтуфьеве мы были левым хором и
многих песнопений не пели никогда. Прошел год, приближался Великий пост, и пришлось разучивать
целые службы — в частности, Страстной седмицы. Это грандиозный объем. Конечно, на первом этапе
старались петь как можно проще, но постепенно наш репертуар расширялся. Детям эта работа была
в радость, потому что им нравилось быть вместе. Их никто не заставлял часами сидеть на спевках,
это было их личное горячее желание. Такое рвение и усердие достойны всяческой похвалы.
И нужно отметить, что дети пришли не сами по себе, а с семьями, и это были очень хорошие
семьи — Морозовы, Устенко, Семеновы, Зыковы, многодетные семьи Мамыревых, Пробатовых... Дети выросли,
но продолжают дружить, это поколение со своими уже многочисленными детьми сейчас составляет молодой
костяк общины.
Вспоминаю те годы: они совсем не были легкими, скорбей и трудностей хватало. Начнем с того, что здание храма долго пустовало и там не было отопления. Не было его, мне кажется, и весь первый год. Я помню, в каких валенках стояла на клиросе и как мы кутались, чтобы не промерзнуть насквозь. И все же то время было очень радостным. Для регента главное — певчие; в Алтуфьеве молодежь на клирос не пускали, а что могут бабушки — несмотря на то что мы с ними устраивали спевки, выучить что-то новое было очень сложно. А здесь началась новая жизнь. Для меня до сих пор самое главное, что есть люди, которые хотят петь, участвовать в службе и даже готовы чем-то пожертвовать, чтобы этому научиться. Некоторые из них быстро становятся певчими и даже регентами, как Аня Ретеюм или Таня Ноздрина. Но большинство учится для себя, и это тоже очень хорошо — как учеба в воскресной школе. Наши ученики знакомятся с церковнославянскими текстами — читают их, пропевают, выучивают наизусть. Тем, кто поступил в певческую школу, я с самого начала говорю: «Замечательно уже то, что вы соприкасаетесь с этим богатством. Кто-то из вас будет серьезно заниматься церковным пением, но не все. Никто не хочет, придя на службу, слушать плохое пение, и если лично вы можете улучшить ситуацию или хотя бы не ухудшить, вы должны петь, а если нет — наверное, лучше воздержаться». Не все, кто учится, будет стоять на клиросе. Но вот одна девушка, которой я сказала: «Не приходите больше, вам бесполезно заниматься», ответила: «Что вы, Татьяна Павловна, в деревне, где я живу летом, петь совсем некому, и они мне рады, ждут меня и просят».
 А потом, все-таки, когда человек очень чего-то хочет, он может горы свернуть.
Бывает, что ученик с нулевыми данными показывает феноменальные результаты.
Так что когда наши абитуриенты не попадают в ноту и огорченно спрашивают:
«Может, мне не заниматься?» — я говорю: «Может быть, и нет. Но случаев, когда человек распелся,
очень много». Ведь именно музыка, пение помогают скоординировать слух и голос...
Для меня продолжается период, когда в Церковь — и на клирос — приходят новые люди,
хотят учиться и служить Церкви. И это радостно.
А потом, все-таки, когда человек очень чего-то хочет, он может горы свернуть.
Бывает, что ученик с нулевыми данными показывает феноменальные результаты.
Так что когда наши абитуриенты не попадают в ноту и огорченно спрашивают:
«Может, мне не заниматься?» — я говорю: «Может быть, и нет. Но случаев, когда человек распелся,
очень много». Ведь именно музыка, пение помогают скоординировать слух и голос...
Для меня продолжается период, когда в Церковь — и на клирос — приходят новые люди,
хотят учиться и служить Церкви. И это радостно.